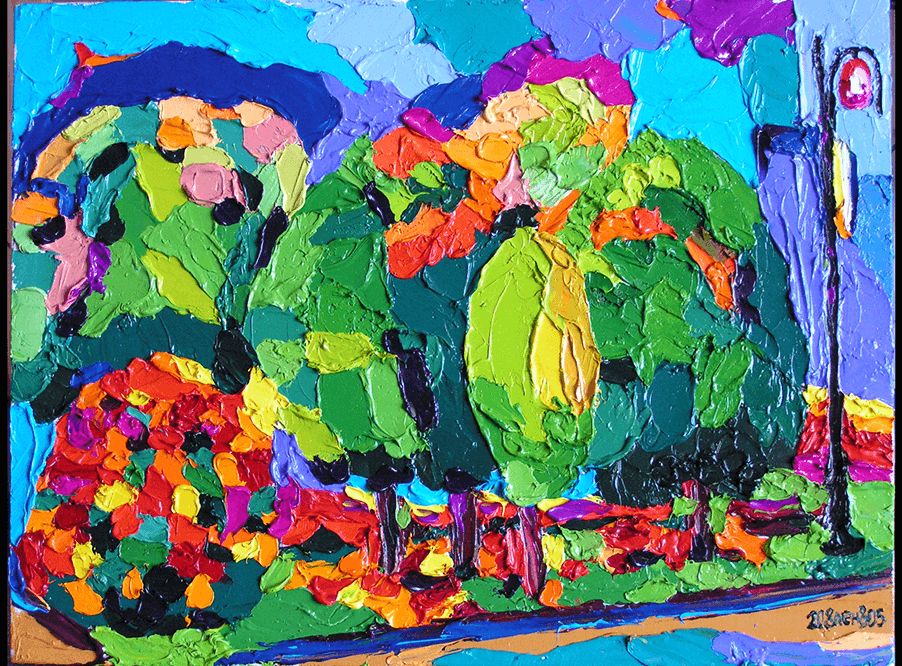Обычная школа для необычных детей
По данным Минздрава, в России аутизмом страдает 1% детей. По закону всем им дозволено учиться в общеобразовательных школах. Но в какой степени реализуется это право?
На родителей, собирающих в школу сына или дочь с аутизмом (как, впрочем, и с другими нарушениями развития), ложится двойная нагрузка. Ведь обучение, естественное для нейротипичных детей, для ребенка с РАС (расстройством аутического спектра) — настоящее испытание. Сможет ли он, не владея устной речью, научиться читать и писать? Как выдержит урок в окружении чужих людей, если ему трудно концентрироваться на чем-либо более пяти минут? Не станет ли жертвой травли из-за «странностей» поведения?
Необучаемость аутистов — миф
Долгое время детей с РАС в нашей стране ожидало весьма мрачное будущее. Они не могли посещать обычный детский сад и получать там необходимые навыки для дальнейшего обучения и взаимодействия с социумом. В лучшем случае таких ребят потом отправляли в коррекционные школы, по окончании которых они чаще всего оказывались вне круга «нормальных» людей и полностью зависели от семьи. А в худшем — до конца жизни оставались в интернатах без возможности развиваться интеллектуально.
Однако, вопреки сложившимся в обществе стереотипам, многие аутисты способны к освоению знаний наравне с нейротипичными школьниками. Они очень вдумчиво изучают понравившуюся дисциплину, демонстрируют завидные способности к иностранным языкам и к математике. Уже став взрослыми, такие дети — те, кому повезло получить нормальное образование в адаптированной среде — ведут полноценную жизнь, становятся программистами, веб-дизайнерами, писателями. И тогда случайному собеседнику порой даже трудно догадаться, что перед ним человек с аутизмом.
Адаптация должна быть обоюдной
Федеральный закон об образовании гарантирует любым детям право учиться вместе — при наличии определенных условий. Но даже сегодня, когда инклюзия обсуждается на государственном уровне, прогресс идет крайне медленно, и за каждую мелочь приходится отчаянно биться. Например, за возможность для школьника с аутизмом сдавать экзамен не устно, а письменно.
По мнению специалистов, к усвоению знаний способен любой ребенок, и чем тяжелее его состояние, тем больше он нуждается в обучении.
Проблема «необучаемости» — не столько в отсутствии способностей, сколько в неумении преподавателя и образовательной системы донести до ребенка знания в подходящей тому форме. Задачу по адаптации детей с особенностями развития к максимальной интеграции в социум, в том числе через образование, взяли на себя специалисты Центра лечебной педагогики в Москве. На его базе открыли интеграционный детсад и школу «Ковчег», позже ставшие государственными. Центр существует уже почти 30 лет и обучает преподавателей специальным методикам работы с детьми с РАС, сейчас там действует восемь групп. Только в прошлом году в мероприятиях приняли участие около 6,5 тысячи специалистов по всей стране.
«Задача ЦЛП — помочь ребенку с нарушениями развития встроиться в нормальную социальную жизнь на том этапе, на котором он к нам попал. Если в два года, мы готовим его к детскому саду. В пять-шесть лет — к школе. Если в четырнадцать — думаем, как помочь ему стать самостоятельным. Расписание составляется индивидуально, и ребенок будет заниматься столько, сколько ему необходимо для решения поставленных задач. В результате почти все наши дети идут в школу, — рассказывает специалист центра Ксения Рейцен. — Хорошие отношения сложились с технологической школой ОРТ, с нашей помощью внедрившей программу интеграции детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы. Мы очень плотно работали с учителями, и теперь дети с аутизмом там есть почти в каждом классе. А ведь это — школа с углубленным изучением математики!»
Кое-кто из выпускников даже поступает в высшие учебные заведения. Один из них, по словам Ксении, учится в ведущем физическом вузе страны, хотя по городу по-прежнему передвигается с сопровождением.
Это не значит, что все дети с аутизмом — скрытые гении: данные у них разные, как, впрочем, и у здоровых. Задача, которую ставят перед собой и центр, и школа, — максимально развить способности, имеющиеся у ребенка с любым уровнем сохранности интеллекта, и предотвратить его «выпадение из социума».
«Часто ребенок оказывается в интернате перед наступлением школьного возраста или уже во время комиссии, потому что особенности его поведения в младенчестве и раннем возрасте не бросались в глаза, — поясняет Ксения Рейцен. — Происходит это потому, что родители не знают, куда с такой проблемой идти. Наша цель — приспособить социум к нуждам людей с аутизмом в той же мере, в какой он адаптируется к потребностям людей с физическими ограничениями».
Первый раз в ресурсный класс
Реализация права аутистов на образование — ресурсный класс с возможностью дальнейшего перехода в обычный. Учитель составляет ученику индивидуальную программу, а тьютор помогает осваивать по ней материал; оба куратора корректируют проявления нежелательного поведения ребенка. Со временем школьники с аутизмом все больше времени проводят в «стандартных» классах: сначала в сопровождении тьютора, а потом и самостоятельно.
Россия может похвастаться целым регионом, где подобный механизм реализуется системно. Это Воронежская область. В Воронеже сейчас около 350 детей школьного возраста с диагнозом РАС, 1 сентября порядка ста из них будут учиться в ресурсных классах в рамках программы «Аутизм. Маршруты помощи» правительства региона совместно с фондом «Выход». Здесь работа тьюторов оплачивается из бюджета, а не родителями. Кроме того, регион способен прогнозировать число детей с РАС, которые пойдут в школу, и как следствие — заранее планировать финансирование их обучения.
Изначально у педагогов, ведущих ресурсные классы, не было необходимых знаний о специфике работы с детьми с аутизмом: специалистов такого профиля не готовит ни один государственный вуз в стране. Сегодня на базе Воронежского института развития образования разработаны подготовительные курсы, преподаватели ездят на семинары по прикладному анализу поведения в Москву, а затем делятся опытом с коллегами из других регионов. Для изучения новой образовательной модели в Воронеж приезжали делегации из Краснодара, Казани, Томской области, Белгорода и всего центрального Черноземья.
Взгляд изнутри
«Ресурсный класс, где я преподаю, существует всего год, — рассказывает учитель школы № 90 Любовь Карпенко. — На шесть учеников приходится восемь взрослых: по тьютору на каждого плюс психолог и я. Дети очень разные, каждый обучается по своей программе, среди них двое неговорящих. Основные проблемы — поведенческие: ребята неспособны контролировать свои действия так, как это делаем мы. С ними приходится долго прорабатывать навыки спокойно сидеть за партой, не перебивать учителя, поднимать руку для ответа».
Ресурсный класс устроен немного иначе, чем те, что мы привыкли видеть в школах. Конструкция парт и стульев не позволяет ученику в любой момент выскочить со своего места, что часто происходит с детьми с аутизмом. Здесь есть сенсорная комната, где ребенок может снять эмоциональное напряжение, например, с помощью погружения в сухой бассейн с шариками.
«Когда у школьника с РАС истерика, его в этом состоянии нельзя выводить из кабинета, иначе такое поведение закрепится. И всякий раз, когда ему неохота учиться, он будет поднимать крик, — делится опытом Любовь. — Нужно обязательно подождать, пока школьник успокоится, после чего отпустить в сенсорную комнату. Еще если обычный ребенок понимает слово „надо“, то детей с РАС нужно мотивировать на каждое задание. Собрал нужное количество жетонов — получил пять минут игры на планшете и так далее. Поэтому мы просим родителей не давать ребятам планшет дома, чтобы у них сохранялась мотивация заниматься».
По словам Любови Карпенко, сложность работы учителя ресурсного класса состоит в недостатке теоретической базы и опыта работы с аутичными детьми. Например, в неумении адаптировать для них задания из обычных учебников. Единого подхода здесь не существует: все дети с аутизмом очень разные.
Про аутистов часто говорят, что они не хотят общаться и не нуждаются в других людях, но Любовь утверждает, что это не так. Кто-то действительно боится посторонних, кто-то, напротив, стремится взаимодействовать. Другое дело, что они не знают, как делать это правильно: не чувствуют тонкостей общения, не понимают, когда нужно организовать себе передышку или как сделать вывод из предыдущего опыта.
Что касается других школьников, те поначалу с опаской смотрели на «особенных» сверстников, но со временем привыкли. По словам специалистов, их отношение зависит от того, что говорят и делают взрослые. И чем раньше начинается инклюзия, тем проще ребятам адаптироваться к друг другу.
«Наши детки участвовали во всех утренниках и мероприятиях массовой группы, посещали ее занятия. Из двенадцати человек трое у нас сейчас на полной инклюзии. То есть количество часов, проведенное в массовой группе, превышает время в ресурсной, — рассказывает дефектолог Ольга Князева из детского сада № 196. (Отметим, что пять выпускников ресурсной группы при этом садике в сентябре 2017 года пойдут в школу). — « К нам стали приезжать из других городов. Люди перебираются целыми семьями, узнав, что в Воронеже у их детей появится возможность полноценной учебы. Прекрасно, что мы можем подарить им надежду, изменить их судьбу».
Снятие ограничений
Необходимо совершенствовать и нормативно-правовую базу. Устраняя противоречия, которые преграждают путь к инклюзивному образованию в масштабе всей страны. Например, некоторые жесткие требования, которые ставит СанПиН, в условиях общеобразовательной школы практически невыполнимы.
Второй барьер на пути инклюзии детей с РАС — кадровый дефицит: обучать педагогов технологиям прикладного поведенческого анализа приходится с помощью сертифицированных международных специалистов, которых в России единицы. А такие учителя нужны, и в первую очередь на профильных факультетах педагогических и медицинских вузов.
В апреле 2017 года президент фонда «Выход» Авдотья Смирнова встретилась с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой, проявившей интерес к вопросам обучения детей с аутизмом. Позже министерство разработало проект приказа, включающий прикладной анализ поведения и основанные на нем методики в профессиональный стандарт.
«За последнее время произошло два важных события, — говорит Смирнова. — Первое — то, что изданное при поддержке фонда пособие „Ресурсный класс“ с подробным описанием упомянутой образовательной модели теперь официально рекомендовано министерством образования. И второе — внесение изменений в профстандарты: умение построить учебный процесс для ребенка с РАС с опорой на методы прикладного анализа поведения становятся одной из базовых компетенций педагога».
По ее словам, специальные образовательные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с РАС, из просто красивых слов в законе об образовании превращаются в конкретные действия. Если у нас будут готовить педагогов, владеющих соответствующими методиками, то классы с нужными условиями для детей с аутизмом можно будет тиражировать по всей стране.
Автор: Людмила Брус