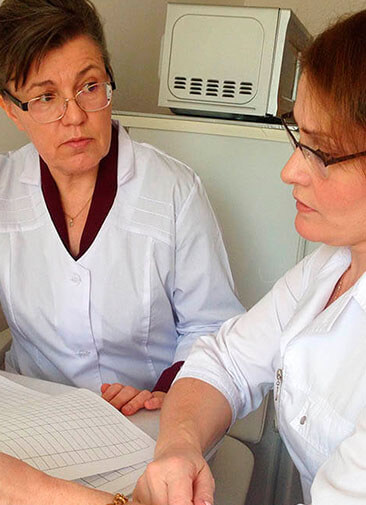Яна Байгот: «Прежде всего надо думать: а как ты помог изменить Систему?»
Яна Байгот — президент и основатель Фонда «Сохрани жизнь». Ее имя известно тысячам матерей и отцов, которым она помогла выйти из чудовищного тупика, куда их загнали болезнь ребенка, равнодушная и несовершенная система и наши пока еще далекие от идеала нравы. Plus-one.ru попросил Яну рассказать, почему она решила заняться этой крайне непростой деятельностью, через что ей пришлось пройти самой, и как быть тем, кто видит вокруг себя только мрак и отчаяние.
Яна
Я жила во Владивостоке; и моя маленькая дочь, тогда совсем еще крошечный годовасик — у нее был ожог с сепсисом, — попала в онкогематологический центр. Мы лежали там очень долго, почти шесть месяцев. Со многими сдружились, и когда в соседней палате умер малыш, я спросила себя: почему дети уходят? Это ведь так несправедливо! Плакала как ребенок: от безысходности, от страха душевного, что вдруг это может произойти и со мной. Не понимала, как можно жить, если ты потерял ребенка. Тогда я даже хотела написать книгу, есть ли жизнь после смерти, потому что на тот момент для меня было только так: смерть ребенка — это смерть и твоя тоже. Я абсолютно была в этом уверена, и до сих пор, пожалуй, так думаю...
Мой ребенок, к счастью, выздоровел: недавно отметили с дочкой ее 14-летие. Ну а я уже не смогла отойти в сторону от работы онкогематологического центра. В 2009 году мы создали фонд в помощь детям с онкогематологическими заболеваниями.
Леша
Леша стал для меня светом в окошке. Сначала за ним присматривали другие мамы, которые должны были ухаживать также и за своими детьми. Но когда они со своими малышами уезжали домой после лечения, этот мальчик оставался в отделении. 2011 год стал для Лешки тяжелым: рецидив, третий по счету. Мне надо было быть рядом: у нас с ним всегда была очень тесная связь. В том же году я стала его крестной. Всегда ему говорила: «Мне главное, что я — перед Богом твоя мама, и никакие бумажки, никакие формальности нам не нужны».
До 13 сентября 2011 года мы боролись, а 13 сентября Леши не стало. Я очень благодарна онкогематологическому центру. Это не хоспис — тогда вообще не говорили ни про хосписы, ни про паллиатив; центр просто оказывал уникальную помощь благодаря руководителю онкогематологического центра, которая не оставляла «тяжелых» детей. Для них выделялся отдельный бокс или реанимация, и они уходили в отделении, в окружении своих близких.
Я, конечно, знала, что Леша вот-вот покинет нас. Мы готовились к его дню рождения, 16 сентября Лешке должно было исполниться шесть лет. Мальчик говорил: «Я мечтаю на свой день рождения задуть шесть свечек». Но трех дней не хватило. Он не был один, он ушел в отделении, где прожил большую часть жизни — с 11 месяцев.
13 сентября меня абсолютно «обесточило»: не было сил, часть меня словно умерла. Это была абсолютная боль, невероятная. Один месяц я вообще не помню, как прожила; точнее, помню, что ровно через месяц мой названный сынок мне приснился — это был октябрь, и он меня просил больше не плакать. Говорил: «Посмотри, мне сейчас совсем не больно, мне здесь хорошо. Пожалуйста, не плачь, ты — моя мама, моя мамочка».
До сих пор — сколько бы лет ни прошло, — я чувствую его. Настолько глубоко, настолько явно, что когда он приходит ко мне во сне — это все наш с ним мир. Можно, конечно, говорить, что я схожу с ума, но просыпаюсь в эти дни счастливым человеком. Потому что видела его, потому что была это короткое время с ним.
Мамой при жизни Леша меня не называл. Только за глаза, когда его спрашивали: «Леша, кто это?» — «Это моя мама». Но мне говорил «Яна». Леша — невероятный ребенок: очень добрый, очень отзывчивый. Солнечный, живой, настоящий ангел во плоти. Тот свет, который он нес мне, сделал меня счастливым человеком.
А потом я узнала, что у Леши есть родной брат, который находится в этом же детском доме...
Влад
...и сразу поняла — хочу этого ребенка забрать! Муж быстро согласился, и мы стали занялись организационными вопросами. Но, к сожалению, заболел мой Давид; тогда нам сказали — это был февраль 2012 года, — что на Влада, брата Лешки, уже оформлены документы, и кто-то его забирает под опеку.
Это был стресс. Безумная ситуация, которую я не хотела принимать. Казалось, будто меня живьем рвут на части; и я плакала, говорила директору детского дома — ну как же так?! И он мне разрешил, пока Влад еще в детском доме, навещать его, но тайком. Единственное, что я могла делать, — приходить, обнимать его: с Лешей они были похожи как две капли воды.
Владислав — это мой полноценный ребенок сейчас, почти два года мы вместе. Как так вышло? Его хотели забрать, но спустя очень короткое время опять вернули в детский дом. Никто мне ничего не сказал, и я узнала об этом спустя четыре с половиной года. С тех пор мы пережили страшный период под названием «опека и усыновление». И, слава богу, в этом году, после трех судов подряд мы наконец вместе. Суды были необходимы, потому что именно так выстроена процедура усыновления.
Все это было в самом деле ужасно: мне говорили чудовищные вещи, вроде «ха, думаешь, тебе вот так ребенка на блюде вынесут?», или «ха, поуезжали тут, а теперь им ребенка подавай». Я не знаю, почему с усыновителями так обращаются; непрофессионализм, наверное, иначе не могу это объяснить.
Владу сейчас десять с половиной. Он у меня взрослый парень, огромный помощник. Мой родной и любимый сын.
Давид
Заболел мой сын, Давид. Врачи не понимали причины: до года с ребенком было все в порядке, а потом что-то стало происходить. Сначала он начал много спать, потом наступила гипотония мышц, и он стал... улыбающимся ребенком. Реагировал только на маму и на близких, больше ни на кого; зато все время улыбался.
Обратились в московские клиники, где все в один голос говорили, что, если есть возможность, — лучше ехать за границу. Мы выбирали между Израилем и Германией, и в Германии нас тогда приняли. Я даже не знала, что, оказывается, в мире так много детей с тяжелыми болезнями вроде ДЦП, СМА (детский церебральный паралич, спинная мышечная атрофия — прим. ред.) и т.д. Боже мой, оказалось, есть дети, которые все время дышат только при помощи аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких)!
Когда мы только приехали в госпиталь в Берлине, никто из врачей ничего не понял. Нас перевели в реабилитационный центр в пригороде, где и был стационар реанимации для очень тяжелых детей. Там все по-другому, паллиативные дети тоже получают реабилитацию. Почему туда? Потому что иногда Давид плохо дышал, у него была очень высокая температура, и клиника, где просто ручки-ножки разминают, нам не подходила. Был май 2012 года.
На три дня я просто ушла в небытие: не могла ни есть, ни пить, потому что видела детей, которые катались на электроколясках с аппаратами ИВЛ. С ними были улыбающиеся родители. Я не понимала: как можно улыбаться? Неужели реально жить с этим? Я много лет работала в онкогематологической сфере, и там приоритетным было знание, какой медикамент купить ребенку, как поддержать родителей в самую трудную минуту. Но мне и в голову не приходило, что у такого количества детей, которых называют «паллиативными», есть Целая Жизнь! И при этом они могут радоваться, смеяться...В России в реанимацию не пускают, чтобы родители могли побыть с ребенком. А в Германии эти дети гуляют! С пищащими аппаратами, с компьютерами, с ИВЛ, с кислородом, с баллонами, с питанием, со всей этой техникой — выходят на улицу!
А я буквально по стеночке ходила; казалось, что просто упаду и умру — не выдержу морально, не переживу. Самое главное — ты не понимаешь, что же происходит с твоим ребенком, что ждет тебя; боишься абсолютно всего. И каждый раз, когда у Давида поднималась температура, подскакивала она и у меня. Причем настолько, что меня просто трясло; и я цеплялась за врачей, на коленях бросалась к ним с криком: «Спасите, помогите, я вас умоляю, он не должен умереть!». А ведь надо было учиться так жить...
Однажды мы вышли с сыном на улицу и поехали в магазин. Там я вдруг услышала крики детей, как раз тех, кого слышала и в клинике. Но их не может быть здесь! Я, наверное, сошла с ума! Однако нет: они действительно находились тут. Я увидела, как мама совершенно спокойно покупает что-то в магазине, а ребенок, очень «тяжелый», — в коляске, с нею рядом.
И я была потрясена: прежде в голову не приходило, что, если у тебя такой «тяжелый» ребенок, с ним можно совершенно спокойно ходить и выбирать покупки — и никто не будет тыкать в тебя пальцем или жалостливо смотреть...
Мы два года прожили в той клинике. В мае 2012 года поступили, а вышли оттуда в конце июня 2014 года. И все эти два с лишним года состояние наше было то совсем плохим, то стабилизировалось, и мы радовались жизни.
Когда нам сказали — идите домой, мы сделали все что можно, теперь вы можете находиться там, — мне стало страшно. Как это «домой»?! Мы тут два года жили! «Нет, теперь все. Смотрите кровать должна быть вот такой, комната должна быть так-то оборудована, кислородный концентратор такой-то, показатели такие-то, монитор такой...» Я спрашиваю: «То есть, теперь реанимационная палата переезжает ко мне домой?! И я сама, дома, все это буду делать? А как же доктора? А где будет врач? Как я справлюсь?!»
У меня случилась истерика. Муж говорит: нам пора домой, мы уже выбрали весь лимит денег на лечение. Я говорю: «Ну как ты себе это представляешь? А если ему станет плохо, а если я вдруг не смогу помочь, а если скорая не доедет? Представь, не дай Бог что-то случится, я же себе никогда не прощу!» Муж мне: «Из клиники все дети уезжают, ты же видела. И это — нормально». И вот, мы тоже должны были покинуть это заведение.
Конечно, дома к нашему приезду все подготовили. Уже была оборудованная комната: на самом деле, это обычная комната Давидки, просто сюда добавилась функциональная кровать, рядом с кроватью поставили кислородный концентратор, монитор, кучу всяких дезинфекторов, трубочек, различные средства по уходу за ребенком и реабилитации.
...Ну вот мы и в России. Это, конечно, было ужасно — то самое первое время. Особенно когда врачи говорят: «Да ничего страшного, все эти процедуры вполне можно делать дома». Но как?! Я умею, да; но мне нужно, чтобы рядом были врачи, чтоб они контролировали ситуацию. Я спать не могла, я как цербер стояла над кроваткой в ожидании момента, когда срочно нужно будет ехать к врачу или вызывать «скорую»...
Так мы прожили целый год. Постоянно лежали в больницах, буквально через неделю-две; постоянно были ситуации, от которых у меня стыла кровь в жилах, и я впадала в состояние отчаяния и страха.
Теперь мы привыкли, в больницу уже не хотим, потому что нас все устраивает дома. Везде ходим, гуляем, Давид очень любит общественный транспорт (для него это как дополнительная терапия). У нас очень много различных программ по реабилитации, и мы даже летали с Давидом на Канары.
Конечно, для меня Германия — до сих пор совершенно чужая страна; но я бесконечно благодарна ей за то, что у меня есть ребенок, и этот ребенок абсолютно социально развит, адаптирован. Он не знает, что такое «нельзя», в том смысле, что «нельзя куда-то зайти». Он видит, что ребенку с ограниченными возможностями на самом деле доступно все.
Мы пробовали жить в России; и это было самое страшное время, которое только можно было себе представить. Потому что здесь, конечно, совсем другая жизнь, и восприятие принципиально иное. Приезжает скорая, и врачи говорят: «Для чего вы сюда приперлись? Приехали из Германии — вы что, ненормальные? Что вы здесь делаете?» И ответить им сложно: на самом деле, почему я со своим ребенком — здесь? «Да, это безумие, да, теперь я это понимаю, знаю, что сюда мне лучше было не приезжать. Но пожалуйста — сейчас мы здесь, нам нужна помощь!» И то ощущение, когда тебя ни одна клиника не принимает, или угрожают, что в реанимацию вас никто не пустит...
Давид — не инвалид! Он такой развитый, такой смешной, такой любимый; и он тоже всех любит. В Германии ни один человек про него не скажет, что мальчик — какой-нибудь «не такой»! Там ко всему относятся очень просто, легко: у вас паллиативный ребенок? Радуйтесь!
В России же ты с болезнью малыша — один на один. Как быть — личное дело каждого. Хотите ходить к психологу — ходите, хотите плакать — плачьте, но у вас это есть, и вы это должны принять. Я побыла здесь, в России, в детском хосписе; и хотя мы были дома, и они нас обеспечивали, сопровождали, помогали — мне было просто страшно. Однако благодаря «Дому с маяком» я чувствовала себя в безопасности. Они полностью помогали нам дома: врачи, психолог, координатор, няня, медбрат — все были рядом и поддерживали нас каждый день. Очень признательна «Дому с маяком» за эту помощь и безопасность.
Как-то мы были в России летом 2016 года, и нас с Давидом в прямом смысле выгоняли из клиники: «Сейчас его в реанимацию заберут, и вы туда вообще никогда не зайдете!». Я говорю: «Какая реанимация, что вы! Я вам его не отдам, я все могу делать сама, абсолютно все; ребенок не переживет, он в сознании, он все понимает!» Мне говорят: «У нас такие правила». — «Какие правила?» — начинаю ссылаться на законы: есть же постановление, что можно посещать детей в реанимации... А они: «У нас тут свои законы».
Давид — ребенок паллиативный, ребенок безнадежный; и никто не знает, сколько у нас времени. Но нам — шесть с половиной лет, и мы все же пошли в этому году в первый класс...
В классе — шесть детей. Есть одна девочка с синдромом Дауна, но она прекрасно говорит, отменно социализирована, а Давид — самый тяжелый. Три воспитателя в классе на шесть детей. Остальные четыре ребенка абсолютно здоровы. Все дети — вместе: они дружат, играют. Они абсолютно равны. И для каждого первое и главное — никаких препятствий. Для каждого такого ребенка должно быть не какое-то отдельное общество, а общество абсолютно здоровых людей, которые должны находиться среди особых детей, и должны учиться у них жить.
Надо ценить каждый момент этой жизни, чувствовать его всеми фибрами своей души, каждой клеточкой своей кожи.
Я училась жить с Давидом, я училась не раздражаться, когда мне говорят: «А что он там сидит?» Или, когда он у меня на руках, а мы на улице, — женщина подходит и говорит: «Ой, залез к матери на руки, стыдоба какая, такой большой, у-тю-тю, мой хороший!» На это все нужно уметь реагировать. Многие родители переходят в агрессию, что, я считаю, нельзя; нужно убрать всю агрессию, она разрушает. Вместо этого нужно созидать. Я слышу от многих мам: «Не люблю, когда задают вопросы». А вот я совершенно спокойно отвечаю на эти вопросы, даже улыбаюсь... Не люблю, когда жалеют. Не переношу сочувствия, скорби; я — я счастливая мама, абсолютно счастливая. У меня такой ребенок! Мой Давид -— это такое чудо чудное, его же любят абсолютно все!
Супруг недавно сказал: «Я знаю, кто абсолютно счастлив на этой планете». «Кто?» — спросила я. «Давид, — ответил он. — Ведь он не видит перед собой преград».
Послесловие
В феврале-марте этого года, когда мы были в России, — увидели, что многое изменилось благодаря качественной работе ряда НКО. Даже приезд «скорой» в ночное время к моему сыну (особенно если мы говорили, что мы находимся под опекой детского хосписа) происходил очень быстро, и с нами врачи были до момента, пока сына полностью не стабилизировали. Однажды они сидели с нами больше часа, пока Давид полностью не успокоился. Конечно, в поликлиниках нас боялись все, начиная от персонала и заканчивая мамами с детьми. Но я по-прежнему уверена, что все — в руках людей. Можно бесконечно сетовать на обстоятельства, но прежде всего нужно думать: «А что сделал я, чтобы изменить систему?» Как я охраняю окружающую среду? Кому я помог? Как много улыбаюсь, сколько радости дарю другим? Это все очень важно.
А вообще — надо любить. Дарить любовь, всему и всем... Обратная реакция будет такой же.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен.